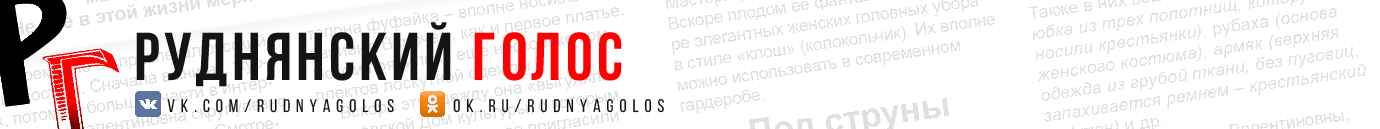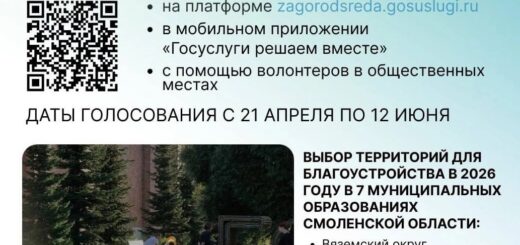Боролись, рисковали – победили!
Почти вся трудовая жизнь Валентины Васильевны Ивановой (в девичестве Лисовской) прошла в Смоленске, там она работала старшим инженером-технологом в научно-исследовательском институте «Техноприбор», подведомственном Министерству приборостроения, в постоянных командировках посетила многие республики Советского Союза.

Ее детство и молодость (с 1933 по 1965 год) связаны с Рудней. Родители построили дом в начале Красноармейской улицы (нынче Киреева), и семья Лисовских стала свидетелем и участником исторических событий сороковых годов. Несколько лет назад женщина вернулась в свой родной город, как будто для того, чтобы успеть рассказать нам историю своей семьи и тех страшных событий, о которых так важно не забывать.
В мирное время
Василий Григорьевич Лисовский вырос в многодетной семье (младший из шестерых детей) на улице 14 лет Октября. Вскоре после его рождения отец умер и мама Александра стала воспитывать их одна. Работала на бойне, которая находилась в ста метрах от их дома к северу. Василий также трудился сызмальства – пас лошадей. Однажды лошадь ударила его в висок, что оставило не только большой шрам, но и не дало возможности получить разрешение на службу в армии в будущем: после медкомиссии ему был выписан «белый билет». До войны Василий Григорьевич работал в сапожной артели «Труженик», находившейся на Кооперативной улице (нынче улица имени Егорова).
Его будущая супруга Варвара Стефановна Твердякова росла в историческом центре Рудни: на углу Пролетарской и Комсомольской. Ее семья также была большой. Отец – участник Первой мировой войны. До 1941 года Варвара работала секретарем-машинисткой в райзо. В то время навыки по этой профессии высоко ценились и молодая семья Лисовских жила в достатке.
До оккупации Валя успела окончить первый класс Руднянской средней школы. До сих пор она помнит имя своей первой учительницы – Сара Ромовна. Женщина рассказывает, что на месте здания ателье, в непосредственной близости от речки, находилась пожарная служба. За воротами можно было рассмотреть спецмашину огнеборцев. Ближе к центру Рудни – магазин, который все называли Центрспирт, «он стоял полукругом». По городу «ходил автобус: от вокзала и до Шерович, я всегда на нем ехала в школу». Это было очень удобно, потому что останавливался он как раз напротив дома Лисовских. Билет стоил тогда 5 копеек.
Спокойную жизнь Рудни, как и многих советских городов и деревень, летом 1941‑го разрушила война. К ее началу Валентине исполнилось восемь лет, а младшему брату Жене было всего четыре года…
До Соловьевой переправы
«Первая бомбежка захватила нас у бабушки Кати на огороде, где мы с Женей пасли корову», – рассказывает Валентина Васильевна. Уничтожив эшелон с беженцами у железнодорожного вокзала, один из самолетов сделал разворот на юго-восточной окраине Рудни и открыл пулеметный огонь по людям на Пролетарской улице. С ужасом рудняне впервые увидели черные кресты на крыльях, началась паника, жители метались по дороге, прятались кто где мог. Тяжелый рев моторов прерывали взрывы бомб на железнодорожной станции, повсюду слышались крики.
«Наши в это время отступали, в городе было много военных машин, и люди прятались под них, – продолжает женщина. – Мы с братиком добежали до половины улицы и тоже бросились под машину». Потом попытались укрыться в окопе, вырытом руднянами незадолго до этих событий. «Там уже были местные жители, я подбежала к окопу и толкнула туда братишку, но меня не пустили: «С самолетов увидят, что ты сюда зашла, и будут бомбить». Братишка плачет: «Валя-Валя!». Я говорю: «Женечка, не плачь, сейчас самолеты улетят, мы с тобой дальше побежим домой». Несколько раз падали на землю, пока добрались до дома, мама выбежала нам навстречу, схватила Женечку на руки, рада – целует, обнимает!».
Родители поняли, что нужно срочно спасаться. Со многими другими семьями они направились в сторону Смоленска. «Мама говорила, что у нас было 16 рублей денег и полбуханки хлеба, больше ничего. Папа вел корову, а она несла на руках братика». Днем прятались в лесу, а ночью шли к своим в тыл. Когда добрались до Соловьевой переправы, узнали, что мост уже заминирован. Наши войска заняли оборону: здесь находилось много танков, машин Красной Армии… Военные предупреждали беженцев о скором бое и советовали прятаться в лесу. «К утру из нас почти никого не останется», – запомнила Валентина фразу молодого офицера. И вправду, сражение было очень жестоким. «Канонада, грохот, казалось, горело все небо…»
Заняв территорию западного берега Днепра, немцы выгнали людей из леса. Строго проверяли, есть ли у них оружие. Василия Григорьевича отпустили только потому, что он не был коротко острижен, всех остальных мужчин фашисты считали военными и забирали в плен…
Не подчинились
На обратной дороге Лисовские видели уже совсем другую картину, которая была написана страшной рукой войны: до последнего дома выгоревшие деревни, мертвые военные у сожженного танка (хоронить советских солдат немцы запрещали, угрожая расстрелом).
Рудня также значительно пострадала. Вокруг их дома и под полом появились рвы и подкопы: здесь наши держали оборону. Вся южная стена побита осколками. На огороде три воронки от взорванных снарядов. Подремонтировав жилье, остались в нем, приняв горькую правду – теперь они станут жить в оккупации, под чужой и враждебной властью. Тогда же родители твердо решили, что будут бороться против фашистского режима…
Василий Григорьевич кое-как отбился от службы в полиции, куда заставляли идти всех молодых мужчин, а Варвара Стефановна связалась с партизанами и поняла, что будет им помогать во что бы то ни стало. Она вошла в число руднянских подпольщиков, выполняла все возможные поручения. В сторону Рокота-Лешно носила оружейное масло в ведре с двойным дном (сверху было налито молоко). Обратно приносила листовки, советские газеты.
Эти бумаги хранились у отца в небольшом сундучке, на котором он сидел, выполняя обувные заказы. «Сверху сундучка меленькими гвоздиками был прибит войлок, под ним незаметно лежали эти листовки. Это был огромный риск: за связь с партизанами немцы расстреливали всю семью и сжигали дом», – говорит Валентина Васильевна.
У Варвары Стефановны было задание – считать сколько по шоссе проходит немецких танков, машин, груженных солдатами, сколько везут орудий. Эти сведения она передавала в партизанский отряд, а оттуда они уходили на Большую землю (так называли партизаны не занятую немцами территорию страны).
А на чердаке их дома не раз ночевала связная партизан. «Мама нас уже на чердак не пускала, а раньше мы обычно там играли.» Она также приносила листовки для распространения в Рудне. Однажды эту разведчицу кто-то выдал немцам. Не выдержав пыток, она назвала имена многих из их подпольной группы. «Были арестованы Бирюкова Екатерина (школьный учитель), Глинская Лида (ей грозил или расстрел, или она должна была выйти замуж за полицейского, конечно, она выбрала жизнь), Шебеченкова Маша (ее дом стоял перед нашим), Матраева Надя, тетя Шура Рыжова (жила на ветлечебнице в бараке). Маму должны были также арестовать, она уходила, ночью пряталась у Поповых на Цыганской улице в землянке (у папиного друга). Если пришли бы ее арестовывать, мы должны были сказать, что она пошла за молоком в деревню и срочно ей передать, что приходили». На случай ареста родителей Лисовскими был разработан план: дети ночью должны были отправиться в сторону Капустино и добраться до партизан. Правда ли он был придуман взрослыми или разработан самими детьми, неизвестно, но то, что Варвара Стефановна сшила им маленькие мешочки и наполнила их сухарями – было фактом.
«Маму защитила учительница Бирюкова. Надю и Машу потом освободили, а Катю немцы угнали в Смоленск и там расстреляли», – подытоживает Валентина Васильевна.
Вспоминая подробности их жизни, женщина говорит, что немцы заставляли закрывать занавесками окна, если в зоне видимости оказывался наш самолет. Однажды в их доме фашисты решили испытывать противогаз. Чтобы поторопились освободить жилье, отца несколько раз ударили плеткой по спине. Все лето им нельзя было заходить в дом, жили у соседей.
Василий Григорьевич любыми способами старался узнать московские новости, что-то рассказывал ему знакомый мужчина, художник Мозолев, который шпионил в управе у немцев. Несмотря на то, что за прослушивание сводок Совинформбюро грозил расстрел, знать, где находится фронт и какие успехи у наших военных, было великим счастьем.
Маленькие патриоты
Дети также считали себя защитниками своей земли. Понимая настрой родителей, всячески старались им подражать и помогать.
Валентина Васильевна помнит, как наши самолеты сбрасывали листовки: «Летит высоко-высоко, как звездочка, листочки летят беленькие, и мы, детвора, моя тетушка, Таня Якуненкова, Галя Макеева, Галя Голубева, бежим, чтобы этих листовок насобирать – они все время падали в сторону Капустино. Потом разбрасываем. Мы были уже патриотами своей Родины». Листовки прятали в галошах. Когда немцев не было поблизости, движением ноги быстро оставляли бумагу на шоссе.
«В день Октябрьской революции мы устраивали демонстрации, мама и папа нам не протестовали. Делали звезду и флажки, раскрашивали их. Нас соберется человек восемь, все подружки. Идем вокруг дома с флажками и песни поем. Проходя вдоль шоссе, флажки прячем (немцы шоссе патрулировали).»
Не раз дети по просьбе родителей резали острым стеклом ногу или руку. Приходя к немцам, показывали кровь: «Krank!» и давали им десяток яиц. За это получали бинты. Медицинский склад находился в доме Анны Прокопкиной на Пролетарской. Немецкие бинты были широкими, «одна сторона капитальная, а вторая движущаяся (любое место можно было забинтовать), и все смазаны ранозаживляющими мазями». Варвара Стефановна с помощью другой связной передавала весь перевязочный материал партизанам.
Школу на улице Киреева немцы использовали как госпиталь, а детям, посещавшим начальные классы, разрешили учиться только в одной – на Колхозной улице. Во второй класс туда пошла и Валентина. Из окон был виден концентрационный лагерь, устроенный фашистами почти в центре города. Учебники подвергались жесткой цензуре. В Родной речи были заклеены портрет Сталина, изображения Москвы и Кремля. Но у самых смелых, был и второй учебник, без купюр. «Как только немец заходит в класс, я эту книгу в сумку, а заклеенную – на парту. Учительница (помню только ее фамилию – Смольская) видела, но разрешала, она была наша, не продавалась немцам, такая добрая была». Так Валя проучилась всего один год: то ли захватчики посчитали, что два класса для русских детей было достаточно, то ли у них возникла необходимость забрать себе и второе здание, которые при бегстве уничтожили… После оккупации Валентина пошла в соответствии со своим возрастом «мимо третьего сразу в четвертый класс».
1017 человек в один день
Из окон первых домов на Красноармейской улице можно было не только удобно наблюдать за передвижением врага, жителям пришлось увидеть и то, что не приснилось бы в самом страшном сне…
Именно здесь по шоссе гнали советских военнопленных. Партизанская группа из Лиозно уже предупредила наших, что будет идти колонна, чтобы попытались хоть как-то их подкормить. Когда женщины увидели первых солдат, сердце зашлось от горя: грязные, голодные, хромающие, с наспех перевязанными ранами… «Мама варила большие котлы картошки в мундире и давала нам, какая она отчаянная была. Я бегу, только гляну: немцы отошли, подскочу на горочку дороги и военным под ноги эту картошку – шух. Они за ней гурьбой, хватают, страшно вспоминать», – и сейчас Валентина Васильевна плачет, произнося эти слова. Несколько дней подряд двигались колонны с пленными…
«На наших глазах полицай перед домом вел пожилого худенького, с мешочком за плечами, наверно, партизана, повел в сторону Шерович, заставил копать яму и расстрелял его…»
Одно из самых тяжелых воспоминаний: расстрел евреев в противотанковом рву на восточной окраине города. От этого места, где сейчас установлен обелиск, до первых домов на главной улице – около 150 метров, и на всем этом расстоянии в сороковые годы еще ничего не было построено, вся местность хорошо просматривалась. (К слову, отсюда был виден и немецкий аэродром, размещенный на поле между Капустино и льнозаводом.)
Это произошло 21 октября 1941 года, спустя три месяца после захвата города, как только фашистам удалось окончательно обосноваться здесь. «Немцы дали команду всем евреям, что их пешком погонят в Смоленск, а дальше на поезде отправят в Израиль. Но это был обман. Как раз до нашего дома они дошли по шоссе…» Когда колонна остановилась, люди сообразили, что дальше их не поведут, и стали разбегаться, но под автоматными очередями вынуждены были остановиться. Убежать смогла только одна молодая женщина Бэлла Рубашкина с Пролетарской улицы. «Она пробежала около нашего дома и спряталась у Тумановых, но, чтобы не подвергать соседей риску, в ту же ночь ушла к партизанам.»
Начальник полиции по фамилии Коротченков побежал осмотреть глубокий ров за ветлечебницей. Это место оказалось заполнено водой, стекающей в непогоду с шеровичского возвышения. Тогда людей погнали к противотанковому рву. Лисовские, как и другие соседи, с ужасом смотрели из окон своих домов. Были отчетливо слышны выстрелы, крики, стоны. Детей сбрасывали живых, кого-то убивали, ударив прикладом… Немцы выстраивали по несколько человек, не разбирая пола и возраста, после автоматной очереди они падали прямо в ров, а на их место тут же ставили других. Когда очередь дошла до подруг Варвары с Пролетарской, она громко закричала. Василий резко оборвал ее плач: «Успокойся, если немцы услышат, нас всех перестреляют тоже!».
Так в этот день погибли 1016 человек. «А 17-й был Коротченков. Его тоже расстреляли. Он на коленях ползал, обнимал ноги немцев, плакал, но это ему не помогло». По слухам его покарали за жадность: слишком много награбленного оставлял себе начальник полиции, при своей власти славившийся особой жестокостью.
Вечером фашисты приходили еще раз, чтобы убедиться, что никто не смог выбраться из ямы с телами. Спастись оттуда удалось единицам…
«Свои!»
Еще одно испытание для семьи Лисовских выпало перед самым освобождением. Отступая, немцы забрали с собой немало руднян. Сформировав колонну жителей, повели их мимо совхоза «Ударник». Варвара Стефановна несколько раз подходила к ним. Объяснялась она на еврейском, который знала от подруг детства. Как известно, идиш и немецкий языки схожи, поэтому немцы ее понимали. Женщина не унималась, пока не упросила, чтобы отпустили всех ее родных.
В Рудне оставаться не представлялось возможным, и они отправились в Цегельню, недалеко от этой деревни спрятались в лесу. Потом знакомая, связанная с партизанами, провела их до Малой Березины. Как только слышали немецкую речь, прятались снова. Когда уставали стоять по колено в воде, отец ломал хвойные ветки, их настилали, чтобы можно было сидеть.
Звуки боя за Рудню долетали и до них, ночью люди видели трассирующие пули, снаряды «Катюш». Когда канонада отгрохотала, наступили несколько часов тишины. А наутро послышалось призрачное, невероятное и такое родное: «Ура-а-а!» Тогда бросились навстречу своим. Так произошла первая встреча с советскими солдатами. От радости освобождения плакали все.
Наступил черед обратной дороги в Рудню. Тяжелым и страшным был этот путь. Лисовские видели, как на розвальни собирали погибших военных… Тогда же погибла, наступив на мину, жена брата Василия Григорьевича Юрия – Шура, она держала на руках маленького сына Толю, его посекло осколками, но мальчик остался жив. И все же они возвращались домой…
Надежда на то, что все испытания наконец должны закончиться, не оправдалась. Ведь Рудни уже не было… Вместо улиц, зданий, домов – пустое место. В начале главной улицы остались 5-6 домов (Лисовских, Шебеченковых, Матраевых, Прокопкиных). Дальше – насколько хватало взгляда – печные трубы на пожарищах. Ни деревца, ни колодца… Почти все рудняне вынуждены были рыть землянки и жить в них кто год-два, а кто и до десяти лет.
Естественно, что дом Лисовских сразу же заняли организации. Здесь разместились роно, райфо и райгорздрав. 7 ноября отца забрали на фронт: документов о состоянии здоровья у него уже не было и никто не стал разбираться, годен он к службе или нет. Спустя несколько недель – 3 декабря – он погиб. Как передали потом, был контужен, отвел в санбат раненого бойца, а сам вернулся на передовую.
Его имя внесено в Книгу Памяти, хранящуюся в храме Георгия Победоносца нашего города.
Варвара Стефановна, как доверенное лицо компартии, продолжила работу секретарем-машинисткой в райкоме. Город еще бомбили, и военное положение отменено не было (они тогда трудились с 9 утра до 12 ночи). Вырастить детей и дать им возможность получить образование ей помог Белоусов Трофим Степанович, также сотрудник райкома, уважаемый человек, вернувшийся с войны с отличиями и наградами.
Валентина Васильевна поступила во Всесоюзный заочный колледж тяжелого машиностроения, трудовую жизнь вместе с мужем начала на молочном комбинате. Когда окончила учебу, переехала в Смоленск. Но спустя много лет она все же решила вернуться домой, в свой родной город, который знала и в самое тяжелое время, и в самые добрые годы его расцвета.
Анна Михалутина
Фото автора, из альбома В.В. Ивановой
Социально значимый проект «Помнить о будущем»