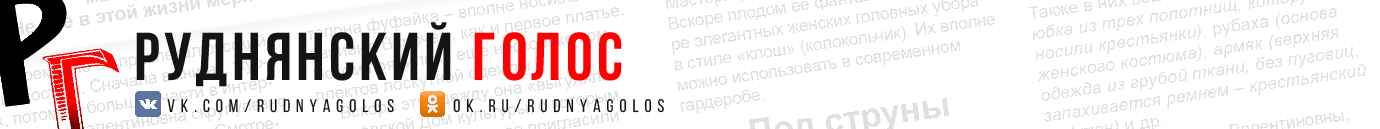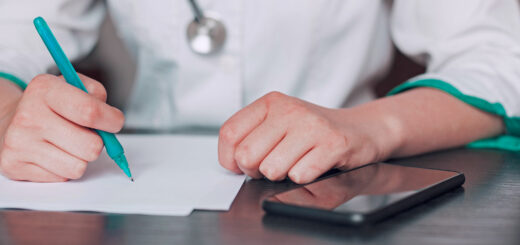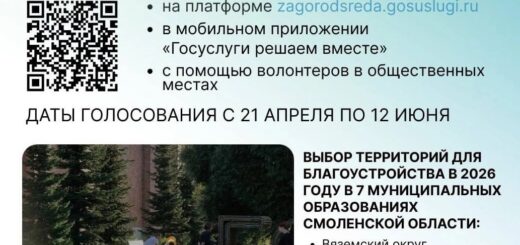Малая Березина
«Моя Бярезыня», – так говорила моя бабушка Анюта, Анна Васильевна Вожлакова (Бакеренкова), вспоминая свою родину, деревню, в которой она прожила почти всю жизнь, годы своей юности, молодости, где пережила оккупацию, откуда уходила на фронт и куда вернулась после победы нашей армии над Японией. Там же она вышла замуж, родила и воспитала пятерых детей, все это время работая в колхозе. В Рудню бабушка Анюта приехала только в 1984-м, в свои 64 года, чтобы помочь моей маме с моим воспитанием, да так и осталась здесь. Горожанкой она так и не стала, до самой смерти помогала по хозяйству, в огороде, зоотехник и учитель по образованию, она прочно держалась за свой диалект, и дома, и «в людях» говоря только на смеси белорусского и русского языка (этот говор свойственен всем березинцам). Ганна – звал ее и отец, что я знаю только по рассказам (своего прадеда Василия я не застала).
Окончив последний материал об улицах Рудни и не выйдя еще полностью из темы прошлого нашей земли, я подумала, что хорошо бы вспомнить историю и наших деревень. А когда начала собирать материал, то поняла, что в первую очередь хочу рассказать о деревне, которую, никогда не живя в ней, считаю своей, – о Малой Березине… Так я стала расспрашивать родных, обо всем до мельчайших подробностей из деревенского быта и жизни (что помнят, что говорили в семьях старшие), из их воспоминаний и построила это повествование.
Старая Березина
Малая Березина – окруженная лесом деревушка в трех километрах от белорусской границы на юго-западе нашего района. Она обозначена на всех подробных картах, которыми мы располагаем. В 1871 году помечена как Ст. Березина (скорее всего – Старая), а вот ее младшая сестра Большая Березина там же именуется Новой. Согласно Азбучному списку населенных пунктов Могилевской губернии по Оршанскому уезду Любавичской волости 1870–1871 годов, «Малая Березина, деревня, расстояние до губернского города 139 (верст), расстояние до уездного города 63, число дворов 11».
Относящаяся к Любавичской волости Малая Березина, как и добрая половина нынешнего Руднянского района, после первого раздела Речи Посполитой с 1772 года до 1919 года входила в состав белорусских земель Российской империи, и почти все ее население было и оставалось крестьянами русско-белорусского приграничья.
В Списке населенных мест Могилевской губернии за 1910 год указано, что Малая Березина имела 265 десятин удобной земли, 38 дворов. Мужчин и женщин здесь проживало почти поровну – 122 и 123, и все они были прихожанами Любавичского православного прихода.
Малая Березина пережила Столыпинскую реформу. Возможно, в то время ее жители и получили участки земли в нескольких километрах вокруг деревни. А может быть, земли под хутора в этой местности крестьянам выделили уже после революции. Семья моего прадеда стала обладателем хутора Копти (находился к северу от Малой Березины, за деревней Одрино), за что потом их называли коптянцами.
В годы Первой мировой войны многие мужчины деревни и близлежащих хуторов были призваны в Царскую армию. Только людей с фамилией Бакеренков (в разных вариантах написания) на информационном портале «Первая мировая война 1914–1918» шестеро (Антон, Василий, Семен, Ефим, Спиридон, в том числе и отец моей бабушки Василий). Указаны также жители деревни Захарий, Кузьма и Павел Вожлаковы, Анисим Перепечин.
Вскоре была объявлена коллективизация, растянувшаяся почти на десять лет… С хуторов пришлось вернуться, и мужики «понесли избы» в деревню на прежние места или в другие селения. Мой прадед добровольно в числе первых сдал свое имущество и скот в колхоз. Другие семьи тяжело расставались с хорошо обустроенным хозяйством. Тогда приходили активисты, «крышу скинут с хаты», все равно приходилось переезжать. По воспоминаниям Тимофея Викторовича Кунаева, отец которого родился в Малой Березине, с хутора Кунаевка они переехали летом 1939 года в соседнюю деревню Загорье.
Перед войной жить стало легче. Молодежь, окончив семилетку в Любавичах, продолжала свое образование в средних и высших учебных заведениях: фельдшерских школах, Руднянском педучилище, Шанталовском сельскохозяйственном техникуме, Ярцевской фельдшерско-акушерской школе, военном училище.
А затем грянула Великая Отечественная война, в которой было и страшное время немецкой оккупации.
Многие не вернулись
Летом 1941-го по первой мобилизации призвали многих мужчин, и большинство из них с родными уже не встретились. Каждая семья получила похоронку, а то и несколько.
По воспоминаниям бывших жителей, фашисты заняли деревню быстро. Произошел небольшой бой. «Немцы еще не были такие злые», и людей, которые копали землянки на горочке вдоль речки, предупредили, чтобы уходили искать другое место для укрытия. «То ли пять домов сгорело при этой перестрелке, когда они наступали…»
Во время оккупации особенно искали партизан. Одну девушку расстреляли за то, что увидели в солдатских ботинках. Убивали и за меньшее подозрение, устраивали облавы. Однажды собрали деревню в большой дом с угрозами поджечь, думая, что связных партизан выдадут или они объявят себя сами. Задуманное не получилось, и людей отпустили.
В августе 1943 года перед отступлением немецких войск были угнаны в Германию на работы Маня Комлева, Софья Вожлакова, Фруза Бакеренкова, Вера Захаренкова, Евдокия Вожлакова, «девки все были, около десятка» 1925-1926 годов рождения.
Когда немцы отступали (осенью 1943 года), соседнее Одрино, пока жители прятались в лесу во время освобождения, было сожжено почти полностью, а в Малой Березине дома остались. Те, у кого жилье сгорело, «кто как ютились, и в землянке нажились, и по несколько семей жило, люди друг другу помогали, дружно жили в деревне».
Бой за освобождение Малой Березины «шел на горе, где сейчас водонапорная башня, там картошка была посажена. Потом жители пошли, может, кто-нибудь будет живой. Нашли восемь мертвых солдатиков». Их похоронили на местном кладбище в общей могиле, устланной их же плащ-палатками. Позже воины были перезахоронены в братскую могилу в Рудне.
Когда в деревню пришли советские солдаты, был развернут военно-полевой госпиталь. Многим жителям пришлось освободить свои хаты для военных. У Трофима Бакеренкова размещался штаб, а семья жила в это время в бане.
Фронт ушел дальше, забрав с собой как будто всю остальную молодежь. Многие парни погибли недалеко от родной деревни в боях за Смоленщину и Витебщину. Девушки уезжали вместе с войсками Красной армии служить в банно-прачечном поезде (Анна Бакеренкова, Мария Вожлакова). Они свою войну закончили в Манчжурии.
Уже после войны деревня продолжала терять молодежь. «Завербовывались на три года отстраивать города», да там и оставалась: в Ленинграде, Москве, в Луганской области, Севастополе… Возвращаться в колхоз, выживать, работая за трудодни, они уже не хотели, к тому же «в молодых семьях рождались дети, и надо было зарабатывать».
Послевоенное время было очень тяжелым. Деревня выживала на грани голода и полной бытовой неустроенности. Вернувшиеся немногие фронтовики, женщины, подростки, все, кто сколько-нибудь мог работать, трудились на восстановлении колхозного и своих хозяйств, восстанавливали деревню. И постепенно Малая Березина оправилась ото всех передряг…
Все – родственники
В пятидесятые годы прошлого века деревенька с полсотней домов (или немногим более) не считалась большой. Хаты стояли не только по обеим сторонам главной улицы, но и на пригорке, и вразброс, где найдется место получше. Деревня негласно делилась на два поселка: нижняя часть, включая и эту главную улицу, – Хитрый поселок (потому что там жило много «юморных» людей) и «на самой горе» – Больнично-базарный (потому что часто отпрашивались с колхозной работы «то в больницу, то на базар»). Даже дети «гуляли отдельно, не объединялись».
Номеров домов не было, на письмах указывали только фамилию и имя адресата, и почтальон исправно приносил их, а появится новый человек – пойдет спрашивать по деревне.
На самом деле искать долго не приходилось, все здесь не просто друг друга знали, но были родственниками. Дальние, конечно, не роднились, и даже могли называться однофамильцами. Таких коренных родов было немного: Перепечины, Вожлаковы, Бакеренки (Бакеренковы), Кочалкины (Кочалко), Школьские, Кунаевы, Комлевы. Многих пришлых еще долго «называли по хуторам», с которых люди переселились перед образованием коллективных хозяйств: Осиповы, Путовы были борковцами – их хутора находились у деревни Борки.
Народа же в деревне было немало, 4-6 детей в семье – считалось обычным, а например, у Ивана Путова – их было двенадцать (Александр, Пятрок, Лида, София…), у Василия Перепечина тоже много (семерых вспоминают сразу), как и у Житковых, Осиповых, Комлевых…
«Красный путеводитель»
Колхоз «Красный путеводитель» был образован только из березинцев. Все зарождающиеся коллективные хозяйства были небольшими (в основном – одна деревня). Люди говорили, что назвали свой колхоз в честь первого после оккупации председателя Василия Федосовича Бакеренкова. В свои 57 лет прадед был крепким коренастым мужчиной, с характерным для «породы Бакеринок» красноватым лицом. К людям относился уважительно, а в работе был всегда принципиальным, отличался строгостью и в своей семье.
В 1950 году произошла сельскохозяйственная реформа. Малая и Большая Березина, Чушаи, Загорье, Портасово стали вести общее коллективное хозяйство «Новая жизнь». Люди очень надеялись на нее, но легче не стало. В середине пятидесятых в колхозе еще не было ни одной машины. Трудиться продолжали «с темна до темна за палочки». Оплачивать работу начали только с лета 1966 года, а до этого «бывало, что дадут пуд зерна в конце года, и все». Могли выдать растительное масло или муку.
Сколько бы ни старались люди, находящееся на окраине района хозяйство долгое время было одним из самых бедных, и многие семьи жили почти в нищете.
Но работали самозабвенно, «колхоз был прежде, чем дом». Трудились все: ученики с родителями работали все лето – на прополке льна (узенькими копылками рыхлили посеянный рядочками лен), помогали на сенокосе. «И все ручной труд был, после войны такую разруху подняли именно на своих плечах без всяких механизаций. Бывало, стогуют сено, уже темно, они ж не бросят незавершенный стог. Потом везет бригадир по домам. Чуть свет, мужики пошли косить, а гребли уже все, кто мог, и женщины, и дети. И сушили, не то, что высохнет и высохнет – а как дома, копны складывали, растрясали несколько раз». Доярки на ферме буквально жили, исправно три раза в день доили всех коров. Держали и свиней. Навоз вывозили тоже сами – «на люльках».
Как зарабатывали
Все без исключения тогда кормились «с земли» своего огорода. Небольшие выплаты получали только инвалиды и семьи, потерявшие кормильца. Еще можно было подработать своими умениями. Ульяна Бакеренкова и Анна Вожлакова искусно шили на швейных машинках (чаще, конечно, бескорыстно: тогда все друг другу старались помочь), Иван Пономарев «хорошо ложил печки», «дед Лихан» продавал мед. Кто мог, продавал и самогонку, такое тоже было.
Дети и подростки «весной ходили драть лозу». Полосы отрывали подлиннее, связывали в пучки и просушивали. После этого лозу можно было сдавать. В деревне ее принимал Макар Кочалко. Работая в сельпо, из Любавич он привозил товары в деревенский магазин, открывшийся «в старом клубе на горочке», с него и начинался Хитровский поселок. У Макара и его второй жены Фени на двоих воспитывалось 10 детей, это была единственная семья, у кого «был сад на весь огород». Хозяин там имел полную инициативу: покупал саженцы плодовых, сам умел прививать деревья. Если у других в огороде могло расти одно-два дерева, то у него все 30 соток (такие большие участки были у всех) занимали яблони, вишни, сливы, ягодный кустарник… и пчелы.
В сезон обязательно собирали ягоды. Школьники носили их продавать в Рудню, «иногда собирались, когда лошадь с телегой шла на Рудню, ведра с ягодами ставили на телегу, а сами бежали следом». Как сейчас мы ездим на машинах – через Любавичи – пешком, конечно же, не ходили. Короткий путь пролегал через Большую Березину (она оставалась немного в стороне), Загорье (там еще было в ходу название-ориентир – мельница, вероятно, ветряная, восстановлена после войны она не была). Люди проходили Портасово, Чушаи, Зуи, затем шли «через Пышно» (на карте 1923 года – Пышни, бывшее имение, изрядно заросшее лесом). Когда показывались дома деревни Халютино, путники знали, что до МТС (сейчас это улица Западная нашего города) оставалось полтора километра.
С собой несли по ведру ягод. В начале 1950-х 12 литров черники стоили 60 рублей. Продавать можно было стаканами или все сразу. Обычно оставались «на ближнем базаре» около железнодорожной станции. Если отнести в центр города, где больше народа, купят быстрее. На вырученные деньги покупали самые необходимые вещи: платьица девочкам, «галоши к школе».
Все ягодные места имели свои названия. Черника («чарницы») росла, «где Кунайка жил», малина – «на канаве, там француз в 1812-м году проходил, это под Пезолом». А клюква («журавины») – на болоте, которое называли Чистый мох, на самой белорусской границе. Еще собирали голубику («дурницу») – за огородами с южной стороны деревни находился Бабин мох (большое место – в несколько гектар). Там росла «трава баган», от запаха которой болела голова.
Еще одно место, богатое на клюкву и «дурницу», называлось Углы. Там же «росли сыроежки и всякие другие грибы: боровики, подосиновики, маслята. Но и змей было много». От змей существовал заговор, передававшийся из поколения в поколение. При входе в лес нужно было трижды произнести: «Змея-сипуха, бойся человеческого духа, берданской воды и постной коляды». Помогал он не всегда, но говорили обязательно, вдруг сработает. Кстати, маслята грибами не считали, деревенские их не брали, а вот если приезжали из Рудни – нарадоваться не могли: столько за раз наберут!
Ореховое Пенное и белорусский водопад
Лесной массив Пенного (еще один местный ориентир) березинцы, как и жители других окрестных деревень, посещали, чтобы заготовить на зиму орехов. Туда отправлялись непременно с тачкой, «дед в тачку запрягется, мы сзади, мешками возили эти орехи домой». А еще там пасли коров, после войны они были не у всех, но стадо набиралось до 60 голов. Пастуха не было, справлялись сами, по очереди.
Потом уже собралось два стада: «одно на Хитром поселке – их за речку гоняли. Другое – с поселка на горе. Весной рано-рано, только снег сойдет, на проталинки выведут и мы, дети, пасем их по болоту». Летом скот выгоняли в три часа утра, как только забрезжит рассвет. Чтобы прийти на пастбище, нужно было сначала преодолеть болото на лесной дороге. Самое топкое место гатили и переводили буренок. «И коровы были послушные, нас понимали, друг от друга не отставали», – рассказывают бывшие жители. А попутно можно было собирать растущие по дороге лисички. Пасли скот и в Сурвилово, также бывшем имении, и за фермой, все называли это место «за нивкой».
Другой лесной дорогой ходили в Горбово. Это уже белорусская деревня в шести километрах от Малой Березины. Там до открытия своего магазина покупали хлеб и крупы («сечку, перловку») в небольшом ларечке. Позже в Горбово открыли магазин, в котором снабжение было лучше, чем в Любавичах, «и дороги были хорошие, набитые, там и автобус стал ходить раньше».
Рядом находилась столовая, в ней питались рабочие. Неподалеку были расположены площадки, где добывали торф. Благодаря местной гидро-электростанции, в торфяные поселки уже был проведен свет. Дети охотно туда ходили, потому что можно было полюбоваться водопадом на плотине, а потом – четыре буханки в мешок, переложив его через плечо, чтобы по две находились с каждой стороны, – и в обратный путь. «А зимой не ходили, жили без хлеба».
Еще одна Березина
Особое место в рассказах о деревне занимает речка Березина (описывая березовый край, сложно будет избежать повторяющихся слов). Она берет начало в одном из многочисленных болот Беларуси. Было предположение бывших жителей, что ее исток в Чистом мху, но судя по карте, он находится намного дальше, севернее – у деревни Соболева.
Чистый мох – народное название болота. «Там ни одного дерева не было, мы туда в клюкву ходили, идешь по мху – по воде, и видно, где еще кто собирает». Две белорусские деревни рядом с этим болотом-озером так и называются Остров нижний и Остров вышний.
Речка доходит до Малой Березины и течет параллельно главной сквозной деревенской улице (около Хитровского поселка). Направление держит в сторону Большой Березины и Любавич.
Местные любили ловить здесь щук (обычно по ведру, можно было и больше, но хранить рыбу было негде), приезжали на рыбалку и из Рудни. Речка тогда была глубокая, не в пример сегодняшнему ручейку; переходили вброд – если нужно в Одрино – только в одном месте. Купались на «своем пляже», где был пологий песчаный берег. А на горочке с другой стороны собирали землянику («суницы»).
Зимой речка замерзала, по ней дети на саночках возили дрова, заготовленные взрослыми в лесу вверх по течению. Во льду вырубали лунки, отсюда носили воду на ферму. Летом здесь и стирали, и прали (били по белью праником при стирке).
Чтобы ближе носить воду, около речки стояла и одна из двух деревенских бань (вторая – у леса под Белоруссию). «Мылись сначала мужики, потом женщины. А споласкиваться бегали прямо в речку». Топили по очереди, обычно мужчины, каждую неделю. Дрова заготавливали все вместе.
Когда купить хозяйственное мыло еще было непросто, «делали щелок». Для этого угли и золу обливали кипятком, потом процеживали: получалась желтенькая водичка, «голову моешь – как с мылом». Потом ее разбавляли водой и мыли все тело.
У реки стояла криница, где бил ключ, там брал воду весь Хитрый поселок. Второй колодец выкопали «около деда Трохима, там еще Маевка собиралась», сейчас на этом месте водонапорная башня. А большая Маевка (праздник с концертом и танцами, который устраивали колхозы после весенней посевной) проводилась в Загорье, где была помещичья усадьба надворного советника Озмидова.
До школы – семь километров через лес
Начальная школа находилась в соседней деревне – Большой Березине. В одной части хатки-пятистенки жили хозяева по фамилии Каркашины, а во второй проводились занятия. Учитель – Иван Ефимович Перепечин из Малой Березины. Фронтовик, комиссованный после ранения, в школу он ходил в солдатской одежде. Невысокий, старше среднего возраста, вырастивший двоих сыновей, очень добрый. «Он никого не обижал, был на войне, сам пережил многое». Вторая школа работала в доме Скопачевых. Здесь ребят учила Анна Петровна Рахтеенкова, она приходила из деревни Одрино.
Позже «на горе между двумя Березинами» построили новую начальную школу. Хорошее добротное здание с большими окнами: после входа – большая прихожая, по центру – учительская, а на две стороны классные комнаты с печкой в каждой из них.
Продолжали учебу, с пятого класса, в Любавичской школе. Самый прямой путь – через лес – 7 километров, а может, и больше. После войны ходили каждый день, только с шестидесятых дети могли жить в интернате. Чтобы не потеряться, ребята объединялись в группы со старшими. Особенно трудно было добираться после снегопада. Парни покрепче пробивали дорогу. «Мальцы (взрослые) шли наперед, девки (взрослые) сзади, а мы, малышня, посередине».
Чтобы прийти к девяти часам, выйти нужно было не позже семи. Сначала добирались до места, где жил помещик, «у нас говорили – пан», это место называли Помещичье (бывшее имение Белозоры, на карте – Белозеры, до 1917 года им владел дворянин немецкого просхождения Петр Емельянович Манчтет, после революции здесь была организована коммуна «Первое мая»). Потом на пути открывался Крутый ров, где переходили и речку, а во время весеннего разлива детей отпускали на каникулы (позже этот ров засыпали). Здесь путь соединялся с дорогой из Большой Березины, «как мы сейчас ездим», по обеим сторонам возделывалось поле. С дороги была видна братская могила, тела из которой несколько лет спустя перезахоронили в Любавичах. Дорога была проселочная, где пониже – очень грязная.
А в лесу школьники, которые возвращались со второй смены, не раз видели светящиеся глаза волков. Поэтому часто шли с зажженными факелами (сооружая их, пучки льна привязывали на палочки). «Волков после войны было много. Кто около леса жил, к тем прямо в окошки заглядывали».
К слову, до того, как из Рудни в Любавичи «стал ходить автобус, пускали крытую машину». Пока доезжали до города, машина не раз оказывалась «по уши в грязи». Когда же появились велосипеды, радости не было предела. Часто один на всю семью, он был постоянно занят.
Праздновали по-старому
Нечастые дни полного отдыха березинцев, как и до революции, были полностью соотнесены с православной культурной традицией. В дни великих церковных праздников строго соблюдался запрет на любой труд. А, например, на Радоницу, до обеда в огороде работать разрешалось, в обед поминали, а вечером уже можно было и веселиться. «До обеда пашут, в обед плачут, после обеда скачут».
Одним из важных дней была Пятенка (праздник в честь святой Параскевы Пятницы). Вдоль речки «на гору и под Большую Березину» – пройдя этим путем, путник видел криницу с большим деревянным крестом и добротным срубом, рядом – поляна. Это место называлось Капличка. На освящение воды туда привозили батюшку из Любавич, а народу собиралось не меньше, чем на Маевку: из деревень Одрино, Могильно, «и портасовцы, загорцы, все наши…». Криница глубокая, а вода чистая, как стекло. Туда бросали копейки, соблюдая какое‑то всеми забытое поверье, со дна они были прекрасно различимы, лежали «как на ладони». Здесь жителям продавали привезенные из Белоруссии сладости, в основном – конфеты-подушечки, позже «приезжал магазин».
Обязательно чтили Пасху, а три дня Троицы назывались «Духа, Троица и Тройчанок». В Великую субботу вечером в основном женщины шли в любавичскую церковь «посвяцать пасху». И до войны жители Малой Березины ходили в это крупное еврейское село на службы. Здесь находились две ближайшие к ним православные церкви – Успенская действует и сегодня, а вот вторая – Никольская – после войны восстановлена не была. Но память о ней сохранена в названии Никольской улицы. Жители Малой Березины до революции были прихожанами Никольской церкви, записи о браке, рождении детей, смерти делались в ее метрических книгах.
После службы возвращались домой – уже утром воскресенья. «Кто ходил святить, до обеда спали, а потом уже начинали праздновать». Бывало так, что в эти важные дни в семье бабушка ходила в церковь в Великий четверг с ночевкой, чтобы видеть, как выносят плащаницу на следующий день, а мать шла на пасхальное богослужение.
На Радоницу посещали кладбище, оно находилось на краю деревни, через дорогу от последнего дома. Обычно собирались к трем часам. Приходили Семен Бакеренков и Ефим Комлев, «которые читали по умершим». Все становились внизу кладбища и ждали, «пока они отчитают молебен, потом уже все расходятся по могилочкам поминать, сидели долго, до захода солнца». Пока старики были живы, этот обычай сохранялся (их же звали в дом умершего, всю ночь читали Псалтирь). (К слову, застолий после похорон не проводилось, «бабам вообще не наливали, а мужикам – только по 100 грамм, они выпивали и уходили».)
После посещения кладбища молодежь собиралась на «вечеринку». Все говорили: «Тройной праздник – утром работай, потом поминай, потом гуляй». Если было холодно, молодежь собиралась в хатах («больше у Марфы Федоровны Комлевой, всегда пускала», ее дом находился рядом с кладбищем и одно время заменял клуб, туда и кино привозили), а повезет с погодой – встречались на улице, но определенного места не было.
Пасху ждали, очень любили этот праздник. На кладбище не ходили, если только покатать по могилкам крашеные яйца. Всех детей наряжали, девочкам старались сшить новое платье (с карманами!). Старались приготовить что‑то повкуснее. «У кого было что, накрывали на стол. Варили мясо. Если была возможность, красили по 100 яиц», дети потом с ними играли «в латки», «в битки», собирались гурьбой, ходили по домам угощая и угощаясь пасхальными яйцами.
Старшее поколение было очень верующим: молились, соблюдали посты, ходили в церковь по праздникам. Школьникам ходить в храм строго запрещалось, и родители не настаивали, боясь навредить. Так поколение детей тридцатых-сороковых выросло совершенно другим, почти оставившим православную традицию. По их воспоминаниям, единственный раз в Малую Березину приезжал батюшка на Благовещенье и причащал детей, «после того в церковь нас не пускали, даже цветочки посвятить на Троицу».
«На сороки» – все на качели
В то же время продолжали жить народные приметы и поверья. Например, в день сорока мучеников Севастийских обязательно нужно было покачаться на качелях. Их сооружали просто: к балкам подвязывали веревки, снизу – досточка-сиденье. Качели появлялись почти в каждом доме, но дети особенно любили те, что на ферме, «там высота хорошая, удобно раскачиваться».
В Святки колядовали, ряженые (среди которых обязательно был «медведь») шествовали по деревне, заходили на танцы, в дома, где их непременно угощали. Девушки постарше гадали нехитрым способом: перекидывали сапог через крышу, чтобы определить, где живет суженый, клали гребень под подушку, чтобы приснился. Если приходилось спать не в своем доме, загадывали: «Ложусь на новом месте – приснись жених невесте».
В первом выгоне скота на пастбище принимали участие все, у кого была корова: если тихая корова – «охраняли от боевых», если бодалась – старались попридержать, пока привыкнет «к коллективу». «На Духа пастухи делали венки из березовых веток и надевали на рога коровам, какую поймают». В обед женщины приходили буренку подоить и рассчитывались за оберег местным «рублем» – самогоном.
«Хади у хату»
«Хади у хату», – таким белорусским выражением приглашали в Малой Березине к себе в дом. Попробуем и мы заглянуть в деревенскую избу сороковых годов…
Красный угол (кут) был в каждой крестьянской избе. Под набожником иконка, чаще бумажная, перед ней – стол. Дома очень маленькие, поэтому скамейки шли вдоль всей стены. Второй центр избы – русская печка, от нее вдоль другой стены стояли полати. Их накрывали самоткаными подстилками, и там спали дети. Взрослые – на печи или на полу: кроватей в избах не было до конца пятидесятых. Пол мостили, только там, где ходили, под полатями же оставалась голая земля.
Из остальной мебели – сундук для хранения вещей, но он был далеко не у всех. У детей часто смены одежды не было, «что надел, так и пошел». Верхнюю одежду вешали на гвоздики, набитые у дверей, для посуды был приспособлен угловой шкафик из досточек. Другая кухонная утварь – чугунки и ухваты под каждый чугунок по размеру, они ставились к стене за печкой, там же – деревянная лопата для хлеба. Чтобы вынуть из печи сковородку, пользовались чепелой, но слово это молодежи не нравилось, казалось неправильным, слишком деревенским. Поэтому говорить старались «цепела», так им казалось благозвучнее.
Крыши – все из соломы, но стелилась она так искусно, что «в любой дождь не пропускала воды, даже на чердаке было сухо. Солома толстая, жгутами связана, ну, старики, они знали, как класть».
Когда жить стали немного лучше, на кроватях появились связанные крючком подузорники, а на столе – самотканая скатерть (с кисточками или просто зарубленная). «Выбиваные, вышиваные полотенца» и праздничные нарядные кушаки висели на стенах как украшение.
Печка-матушка накормит и обогреет
Всю еду готовили в печи. Там и хлеб пекли, и щи варили. Тесто замешивали в деревянном ушате, в нем же делали закваску. Чтобы тесто не прилипало к лопате, под нее клали капустный лист. «Жар из печки выгребали и пересыпали в припечник, а то место чисто вымывали привязанной к палке помелой. И туда ставили выпекать хлебушек».
Еще одна незаменимая вещь в хозяйстве – жернова. Они представляли собой два круглых плоских камня. В середине первого отверстие, куда сыпали зерно, второй камень – цельный. Вращали за ручку, а мука сыпалась на гладкий топчан, стоявший под жерновами. Ставили жернова в сенях, и пользоваться ими могли все соседи.
В больших чугунах, чтобы накормить всю семью, каждый день варили обычный суп и суп из капусты. «Сначала ели щи, потом суп, и всё». Утром пюре или приснаки (пюре толкли, перемешивали с мукой, чтобы сделать лепешку). Еще готовили «макало»: в ступе толкли сухие семена льна и размешивали их с бульоном от варки картошки, «делали мешанину, навроде каши», ею заливали вареную целиками картошку и во время еды обмакивали целики в этот бульон. Когда появилась возможность держать поросенка, жарили сало, жир добавляли в пюре, а шкварки ели с хлебом.
Пили молоко, простоквашу и просто воду. Делали хлебный квас и рассолы в бочках из бураков, красных и сахарных вперемешку (закисали они сами, без добавок, превращаясь во вкусный напиток).
Чая в Малой Березине долго не знали, и чайника, соответственно, не было. В любой семье был утюг, в который сыпали жаркие угольки (завсегдатай любых исторических музеев). «А еще были качалки, одна гладенькая, как скалка, и рубенник – с насечками с одной стороны». С их помощью полотно делали мягким, например, для самотканых скатертей и простыней. А ткать, как и прясть, вязать учили всех девочек. Готовить, стирать, смотреть за детьми и работать в огороде – это все были женские обязанности.
А мужской труд (в довоенные времена, когда их было вровень с женщинами): любая работа с деревом, стройка (обычно собирались толокой), покос травы… «Были ручные косы – литовки. На колхозных лугах прочили работать всем, кто только мог, даже на пенсии, что полегче: бураки тягать, сено гресть». И подгребали тщательно, «до одной травинки, хвостов не оставляли. На деревню посмотришь: такая чистота, все везде обкошено». На телегу ставили распорки в виде решеток, «чтобы туда побольше сена наложить, фургон назывались». «А себе косили около кустов, какие лапики были, где какие проталины, прогарины между леса, осоку вдоль речки, тогда скот все ел. Впоследствии уже пайки стали давать.»
Корова – за плугом, куры – под печкой
Первое домашнее животное, которое старались завести в хозяйстве, конечно же, корова. После войны на них и пахали, и «скородили» посевы, а вот молока от них в то время видели мало. Дети за речкой собирали траву для коровы – «свинокроп» (местное название троицы мелкосемянной). Набивали большой мешок, который «нельзя было никак дотянуть до дома».
Еще держали овечек. Редко у кого был поросенок, его привязывали за домом – выпускали на выпас. Докармливали собранной по огороду мокрицей, ее мыли, рубили в корыте секачом, «а чтобы задобрить – шелуха от картошки». Использовали для корма и картофельную ботву: жали серпом, когда картошка отцветет, но еще не начнет желтеть. Ботву сушили и оставляли на зиму.
Материалы на сараи шли «самые негодные», и получались они настолько худые, что зимой температура не отличалась от уличной. Поэтому кур на зиму забирали домой. Под печкой было отведено большое место, дверцы-окошко решеточками, чтобы дышать. Куры высовывали оттуда головы, заглядывали в избу и чувствовали себя полноправными членами семьи. Другую птицу после войны не заводили.
У многих не было и собаки (сторожить нечего, а кормить ее нужно), но если идти по деревне – звоночки лая кое-где раздавались. Зато коты были у всех – все те же Васьки и Мурки. Еду они находили себе сами, жили охотой и в основном – в сараях.
В огороде росли привычные овощи: картошка, лук, редиска, сладкая маленькая репа (ее чистили и ели сырой), бураки, в том числе и кормовые, боб. Хранили урожай в подполье и в закопах – буртах. От детей «калитку в грядки завязывали», но сладкого очень хотелось – поэтому морковку все-таки воровали.
Из цветов – «разве что колокольчики под окном, этого не понимали. Обычно кустики были: черноплодная рябина, калина у забора». Кстати, заборы делали из жердей и называли «згародами» (отсюда выражение: «что ты стоишь, как згарода», то есть стоишь на пути). А вот «в Белозорах, где было дворище пана», долго сохранялись кусты акации.
В метрики – на две недели позже
После войны в деревню приходила медсестра. Все ее звали просто по имени – Катя. Приносила порошки, таблетки («пилюли»), делала прививки детям. Она жила в Одрино. Если что-то серьезное, человек ехал в Рудню. К слову, Яков Артемович Бакеренков родом из Малой Березины, крестьянский сын, в 1927 году окончил медицинский факультет Смоленского университета. После войны его направляли поднимать районные больницы Смоленской области, назначая главным врачом. В 1950-е годы он работал главным врачом и хирургом Руднянской районной больницы, потом уехал продолжать практику в Смоленск, до самой пенсии работал в санавиации, на что решался не каждый молодой врач. Яков Артемович стал уважаемым в медицинском сообществе человеком, прожил более ста лет.
Второй известный врач, родившийся в деревне, – Борис Трофимович Бакеренков – работал окулистом и преподавал в Смоленском медицинском институте в 1960-х. Оба врача Бакеренковы работали во фронтовых госпиталях в течение всего военного времени.
Были в деревне и свои знахарки: некоторые бабушки «понимали какое-то лечение», заговаривали воду, вправляли «золотник», кода болел живот. Баба Рипина (Агриппина Кочалкина) тоже «лечила руками». Кроме того, знала дело повитухи. Ее приглашали принимать роды, которые проходили дома. Чтобы записать младенца в метриках, отцу нужно было ехать в сельсовет. Он назывался Демяховский, но был в деревне Одрино (после войны деревни Демяхи уже не существовало). Часто до оформления проходило несколько недель, и дата рождения ставилась значительно позже настоящей.
«Встречай невесту с добром….»
Народная свадебная традиция в середине ХХ века в деревне еще сохранялась.
Сначала застолья проходили в доме жениха и отдельно в доме невесты. Невеста надевала венок, платье, по обеим сторонам от нее садились самые близкие подруги.
Потом встречали сватов жениха. Сразу в дом их не пускали, тогда они начинали петь (орфография передает говор):
Выходи, свякрова горбатая,
Устречай невесту богатую.
Выходи, свякрова, с горбом,
с горбом выходи,
Устречай невесту, с добром,
с добром…
Когда невесту одаривали плохо, могли петь совестливые куплеты, чтобы не жадничали:
Даруйтя, сваты, даруйтя,
Даруйтя, сваты, даруйтя,
А не будетя, даровать,
Будетя у нас ночевать,
Положим мы вас на лауку,
Накроем мы вас коряукой…
(под корявкой понималась грязная тряпка).
Или вот такие слова:
Пришел Гришечка грибатый,
Положил пятачок щербатый…
Невесту отдавали, и люди садились в «свадебный поезд». «Раньше специально заливали водку коням, чтобы они весело ходили на свадьбе. Колхозные клячи обычно заработанные были, а так бежала – ног не чувствовала». Ехали тоже с песней:
Зялененький наш поездок,
Вяселенький наш голосок,
А где мы сели, запели,
А где мы стоим, заиграли…
Все песни пели на один мотив, каждую строку повторяя по два раза…
В доме жениха, когда садились за стол, невесту заставляли плакать:
Неправдивая калина,
Казала, цвести не буду,
Как пришла пора – зацвела,
Белого цветка взрастила,
Неправдивая Манечка (например),
Казала, замуж не пойду,
Как пришла пора, так пошла,
Молодого Васечку (например) полюбила…
Ух-ух-ух…
Во время застолья песни звучали «под каждую рюмку»…
На следующий день в дом жениха несли солому. И тоже с песнями невесту заставляли подметать, потом ставить чугунки в печку. Песни исполняли под гармонь или просто так, и звучали они не менее красиво и празднично.
Когда в колхозе появились грузовики, за невестой ездили на машине – полный кузов людей (к слову, так же отвозили призывников в армию в Рудню, провожали). Дать машину на свадьбу считалось само собой разумеещимся. А женились березинцы чаще всего на девчонках из соседних деревень – Одрино или Тура, там же местные девушки находили женихов. До того, как в деревне сгорел клуб, туда ходили на танцы, так и знакомились. Иногда ходили в Большую Березину к Ефиму и Гапуле Скопачевым, в доме которых была раньше школа.
В своей деревне двери для танцев открывали те, «у кого большие дома и молодежь есть. У Марфы Комлевой, Ивана и Сахвеи (Софии) Вожлаковых, Александра Путова, Макара Кочалкина. Собираем лампы штуки две, чтоб посветлее было, гармониста и гуляем». Музыкант Иван Артемович Бакеренков, «у него гармошка была, на два баса играла, и еще там мальцы умели, Борис Путов… Все на гармошках, от души играли. Вера Бакеренкова – на балалайке, еще был Иван Колышкин, он приносил скрипку». Все знали колена разных танцев: лявониха, яблочко, полька, краковяк, метелица, коробочка.
Приходили и «бабы с малыми детьми», садились на расставленные по кругу лавки, а молодежь в кругу танцует «только пыль столбом, танцы были шустрые! Потом кто‑нибудь пройдет, со рта попрыскает, чтобы пыль осела, и опять продолжают».
В этой маленькой деревне в 2007 году еще было 22 жителя. Сегодня из старожилов здесь осталась только одна женщина Ирина Стефановна Кочалко. О ее жизни было рассказано в материале «Обыкновенные судьбы» Елены Школьской, опубликованном в нашей газете 4 мая 2023 года. Многие бывшие березинцы и их потомки живут в Любавичах, Рудне, Смоленске, Витебске, другие разъехались еще дальше. Но деревеньку свою они помнят и также любят.
Анна Михалутина
Социально значимый проект «Земля – кормилица России»