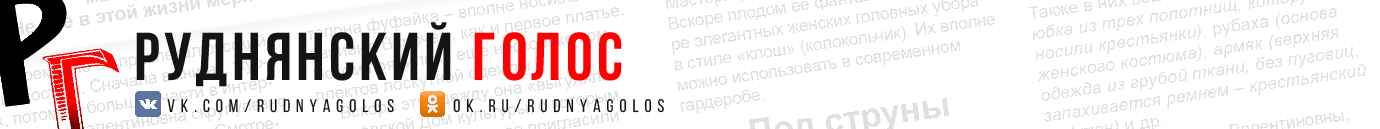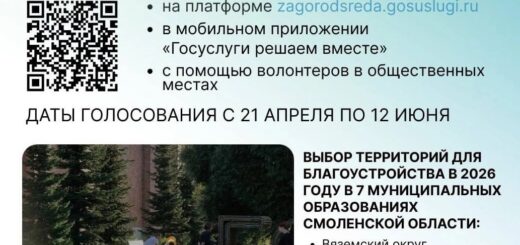Заготинские были
Заготино – старинная деревня в центральной части Руднянского района, от Рудни (к востоку) до нее всего 6 километров. История деревни уходит вглубь веков и хранит немало интересных подробностей о нашей земле (самые старые монеты, которые находили здесь, – середины 18 века).
Название селения незначительно менялось со временем. Будучи в составе Руднянской волости Оршанского уезда Могилевской губернии она звалась Заготынь. На карте 1923 года обозначена как Заготыня. Современная более мягкая в звучании форма – Заготино. И все они имеют одно значение…
Дело в том, что до 1856 года, когда было окончено строительство прямого Смоленско-Витебского шоссе, проходящего через Рудню, жители нашего местечка добирались до Смоленска отнюдь не коротким путем. Дорога шла через Шеровичи, Заготино и дальше по краю болота направлялась к волостному центру Иньково. Берущая начало в урочище Большой Чистик небольшая речушка и сейчас протекает перед деревней Заготино. Она преграждала путь во время разлива. Да и сама местность здесь, перед возвышением деревни, была болотистой, низкой. Для успешного проезда речку гатили, что дало наименование и ей – Готынка (Готинка), и селению, расположенному за этой гатью, – Заготино.
По другой версии, которую помнят бывшие жители, в екатерининское время здесь возникло поселение людей, выселявшихся в качестве наказания за провинность за эту гать, как за границу (место считалось неуютным, не самым лучшим для жизни).
Видели и французов, и немцев
Во время Отечественной войны 1812 года отдельные части армии Наполеона наступали именно через Рудню (сам император шел по старой Смоленской дороге, он пересек границу Смоленской губернии в поселке Красном). К концу июля основные силы дивизионного генерала Себастиани стояли в деревне Лешно, от Заготино до нее не более трех километров. 27 июля у Молева болота под Иньково с французами сразился отряд Донского казачьего войска под началом атамана Матвея Ивановича Платова. Казаки тогда предприняли до 50 атак, поразив около 500 солдат неприятеля. Таким образом, жители Заготино могли видеть французов дважды: во время их наступательного шествия и несколькими неделями позже – с позором бегущих от русских штыков (часть из них бросилась на юг, другая отступала прежним известным путем).
Приближались годы Великой Отечественной войны. Летом 1941-го все холмы за речкой изрыли окопами в надежде задержать неприятеля. До сих пор на лугу заметны воронки от вражеских снарядов, сейчас это заросшие бурьяном углубления. Каждая семья возле своего дома копала окоп, в котором пережидала бомбежку.
Современники военного периода рассказывали, как немцы, захватив деревню, на центральном перекрестке расстреляли семерых красноармейцев. Среди мирных жителей они также искали солдат. Заметив Семена Эрастовича Григоренкова в гимнастерке, тут же увели, где его убили, неизвестно. Петра Шукаева (он был коротко острижен) жителям удалось выкупить, собрав всей деревней куриные яйца.
В Заготино поселился небольшой отряд фашистов. В доме Максимцевых они устроили столовую, на усадьбе Сечковых – склад боеприпасов, на огороде Кухтиковых стояли танки, дом переоборудовали под казарму. Александра Ивановна Крупенченкова готовила немцам обеды, которые должна была пробовать у них на глазах (они боялись, что еда может быть отравлена). От немцев больших бед жители не испытывали, а вот австрийцы, как рассказывали, были жестокими, их боялись.
Осенью 1943 года немцы, отступая, угоняли коров, полицаи сожгли половину домов в деревне. 29 сентября пришел долгожданный день – освобождения.
В Лешно разместили штаб полка Советской Армии, а в Заготино – опорный пункт (в доме Степаниды Григоренковой, жены Семена) и эвакуационный госпиталь. В бое за эту деревню погиб командир дивизиона 545 армейского пушечного артиллерийского полка Дмитрий Павлович Максимов. Авиабомба попала в их машину: майор Максимов и шофер погибли на месте, старший разведчик и телефонист получили ранения (в послевоенное время заготинский колхоз носил имя Максимова).
Расстрелянных красноармейцев перезахоронили в деревне Шеровичи. А на местном кладбище осталась могила солдата, умершего после боя 1941 года. Раненый, он дополз до деревни, позже подростки похоронили его на краю кладбища. В настоящее время это место почти забыто.
Еще одна могила времени войны – в центре деревни, она обихаживается учащимися Чистиковской школы. Здесь похоронен Николай Прокофьевич Свириденков, партизан, погибший при освобождении Заольши.
На фронте были мужчины из каждого заготинского дома, более 15 из них не вернулись, многие пришли с контузиями и ранениями.
Семьи-старожилы
Как и во многих русских деревнях, население Заготино было постоянным. Люди жили здесь поколениями, образовав несколько крупных родов. Жен в основном брали из соседних деревень.
Был единичный случай, когда прапрадед Лазаренковых Федон после участия в войне на Северном Кавказе привез девушку, все говорили, черкешенку (почти как в «Тихом Доне»). Их пятерых сыновей и многочисленных потомков в деревне называли черкесами. Борис Федонович и Данила Федонович Лазаренковы поселились в Заготино. В середине прошлого века здесь жили трое родных братьев из их рода: Дмитрий Борисович был председателем колхоза в Жари, Павел Борисович – бригадиром в своей деревне, а Иван Борисович, партийный, председатель Рокотянского, а потом Чистиковского сельского совета. В конце 1980-х вернулся в родную деревню Михаил Павлович Лазаренков, был бригадиром на колхозной ферме, а затем до пенсии работал механизатором в СПК «Нива» (на снимке). Именно он запечатлел на свой фотоаппарат виды деревни пятидесятых-восьмидесятых годов прошлого века, на следующей странице и далее в материале помещены несколько из его снимков.
Коренными заготинцами были Новиковы, Крупенченковы, Аверченковы, большие семьи Быстриковых и Крутенковых. Перед войной из Верхней Жари сюда переехали Волковы, после оккупации – Киндеевы.
В школу – в Лешно, на танцы – в Жарь
Самые ранние воспоминания о Заготино, о которых нам рассказывали жители, относятся к концу 1950-х – началу 1960-х годов. Как и сейчас, в самом начале деревни приезжий человек видел кладбище. На некоторых могилках еще сохранялись каменные дореволюционные памятники. На них были выбиты надписи с буквами Ъ, Ь, i.
Главная улица «шла через горбыль», в центре между домами – колодец, он и сейчас стоит. Названий улиц, конечно, не было, говорили просто «где Иван живет, где Козел живет», что звучало совсем не обидно, и все пользовались этими обозначениями.
Деревня была большая, со сложным рельефом: более 70 домов стояли на двух холмах, перепады высоты здесь до пяти метров. Сохранялось много довоенных стареньких домиков. В них жили в основном одинокие женщины, солдатские вдовы. Срубы маленькие, низкие, с крошечными окошками, «такие сейчас только в бане ставят».
Детей в деревне было много. Более пяти детей было в семьях Гаврилы Самсоновича Пятыго, Ивана Игнатовича Максимцева, Бориса Федоновича Лазаренкова. Ученики начальных классов занимались в доме Стефана Крутенкова (в одной половине жила его семья, в другой размещалась школа). С пятого по восьмой класс ребята ходили в школу в соседнюю деревню Лешно, другие – в Шеровичи (смотря с какой стороны приехали родители, туда отдавали и детей). Кто хотел продолжать учебу – пешком отправлялся в Рудню, с 1963 года – в только что открытую среднюю школу «около военкомата». Поскольку детей было больше, чем могли вместить классы, – уроки велись и во вторую смену.
Где-то в 1961 году, когда провели денежную реформу (так и запомнилось старожилам), в Заготино тоже построили школу, деревянную, добротную. Чистиковская детвора пошла сюда, а через 10 лет учебное заведение открыли и в Чистике, и юные заготинцы уже «прописались там». Опустевшее здание в Заготино переоборудовали под магазин (во время перестройки оно было разобрано).
До этого ближайшая торговая точка находилась в Чистике, при местной пекарне, а еще раньше хлеб покупали в Рудне, если оказывались в райцентре по делам, или пекли сами. Также продукты могли приобрести в доме Шапочкина, часть его была отведена под лавку сельпо, и товар привозил он сам. В прошлом Шапочкины жили на хуторе (на краю деревни в сторону Чистика), семья была зажиточная, их раскулачивали.
В начале шестидесятых в деревню провели свет: в ряд выстроились запасынкованные деревянные столбы-великаны. Тогда же стали выдавать первые пенсии – 12 рублей. Многие жители отстраивались, потому что только к этому времени смогли собраться с силами после передряг войны.
А вот клуба в Заготино не было: молодежь ходила на танцы в Жарь (сейчас от этой деревни не осталось ни одного дома, все сгорело от палов травы). Каждый выходной проводили вечеринки, так называли танцы у кого-то дома. «А так собирается молодежь на улице после работы. Хоть как заморился, но пойдешь, сбегать надо. Бывало, гармошка играет…» «Гармонистов было очень много, можно сказать, через дом. К шестидесятым ближе было много застольных праздников, отмечали все: зажинки, уборку урожая, люди сходились на 1 Мая, 8 Марта».
Дети играли в основном на территории деревни, так безопаснее, ведь рядом болото и лес. Летом – в лапту, футбол, а зимой холмы (как Самсонова гора) превращались в горки для саней и лыж. Лыжи лучше всех мастерил Николай Семенович Григоренков. Подростком он был угнан в Германию и, работая на ферме, научился особой обработке дерева, какую не знали в деревне. Его сыновья катались и свои лыжи не берегли, другие сломают по пять пар, а у них все еще были целы. Зимой даже после школы по-темному старшие ребята катались на дальние дистанции – в сторону Рокота до самых Малышкинских гор.
Волейбольную сетку натягивали на бугорке у главного перекрестка (играть в волейбол сюда часто приходили лешнянцы), здесь же стояли футбольные ворота.
Еще интересная подробность: до постройки в Заготино здания бригады (была такая небольшая избушка, куда собирались на наряды) бригадир ходил по деревне и созывал людей на работу, «потом уже стали в бригаде приходить на наряд, уже построили конюшню, хомутовку свою».
Если надо было обратиться в больницу, запрягали коня и ехали в Рудню. «Краем Шерович шла дорога, ее называли большаком», она выходила к первому перекрестку между Шеровичами и Рудней, где раньше была ветлечебница. Что попроще – лечили дома, и каждый знал свое народное средство, например, варили картошку или парили семя и привязывали к шее – это чтобы горло не болело.
Этим же путем носили на продажу в Рудню лук и другие огородные излишки, ягоды. Пока болото не осушили, там собирали много клюквы. Сюда же «ходили в голубику – дурницу», от пыльцы ее постоянного спутника багульника (если есть ягоду немытой) кружилась голова и тошнило. Бывало, продавали и грибы. Их искали в лесу, который тянулся от деревни до самого Рокота. Два лучших места называли Первые и Вторые Коровники, к слову, когда началось освобождение деревни, люди прятались именно там.
Ферма «Советской России»
История знаменитой в районе заготинской фермы началась в 1929 году с образования своего маленького колхоза «Вперед к социализму». Первый бригадир – Иван Антонович Росликов.
В 1930 году активными колхозниками становятся Михаил Никифорович и Параскева Герасимовна Быстриковы. Михаил Никифорович работал на жнейке, в 1922 году он был свидетелем выступления Ленина перед солдатами и офицерами во Ржеве.
В 1933-м бригадой № 6, в которой трудились уже 130 человек, начал руководить Александр Ефимович Козлов. 47 лошадей, 75 дойных коров, 350 овец и около 70 свиней было в их хозяйстве. Заведовала молочнотоварной фермой Клавдия Кузьминична Сечкова.
С 1938 года жители окрестных хуторов начали переселяться в Заготино, ставшее центральной усадьбой колхоза. Дома ставили не сплошными рядами, а где было удобнее (местность здесь покрыта песчаными холмами), так между ними образовывались пустые места. А названия прежних деревень и хуторов, окружавших Заготино, люди помнят до сих пор: Борисенки, Суковатики, Николихин ручей, Глинище, Селивонова гора, Самсонова гора, Старины, Мазуровы кусты…
После объединения с соседним колхозом деревни Высокая Жарь, хозяйство стало носить имя государственного деятеля Николая Михайловича Шверника. В колхозе уже были свои кузница, мельница и баня.
После очередного укрупнения заготинская ферма, на которой трудились почти все женщины деревни, стала частью шеровичского колхоза «Советская Россия». Работали стараясь, вкладывали не только силы, но и душу, потому и ферма была одной из лучших в районе. «Коллектив ее стабильно отличался высокими показателями, праздничные кофточки и платья доярок украшали ордена и медали. У кого-то орден Октябрьской Революции, у кого-то «Знак Почета», золотые медали ВДНХ, знаки ударников очередной пятилетки. А доярка Воробьева Нина Иосифовна избиралась депутатом Верховного Совета СССР», – пять лет назад писала в материале по случаю 90-летия СПК «Нива» Людмила Эдуардовна Азаркевич.
К сожалению, сейчас новому человеку в деревне не найти и следа бывших строений: они разобраны до основния. Перестали существовать сначала конюшня, затем телятник и ферма, забросили амбар, весовую… «Ферма была на самой горочке, – рассказывает старожил деревни Антонина Андреевна Фирсова. – Возле башни – скотный двор, налево – телятник. Где плиты – закладывали силосные ямы. Женщины все умерли уже, но и прожили большую жизнь, хотя и трудную, по 90 лет». «Мы любили свою работу и шли на нее с радостью, – говорила в 2019 году 89-летняя Зинаида Демьяновна Быстрикова. – Бились за каждый литр молока. Приехали как-то представители райкома агитировать нас в партию вступать. ‘‘Миленькие ж вы наши, какая партия?! А кто доить будет? Нам же некогда по совещаниям-собраниям ездить, у нас планы, обязательства – их выполнять надо’’. Нам, бывало, посетить районное совещание животноводов – целая беда. На абы кого коров не оставишь, я только сестре и доверяла подоить. Всю семью тянули на ферму помогать. Боже избавь, чтобы в группе яловую корову держать».
В лучшие советские годы здесь содержали 250 коров (швицы и черно-пестрые) и телятник. И зарплаты получали – лучше не придумаешь.
На месте болота – рабочий поселок
Когда было принято решение о торфоразработке на местном болоте, люди говорили, что «будет строиться большой город». И действительно, со временем его население составило 1230 человек.
Интересно происхождение названия поселка. Урочище Большой Чистик обозначено на карте 1923 года. Но почему Чистик? Из рассказов старожилов выяснилось, что большие участки этого болота люди называли чистиной, ведь оно было так насыщено водой, что деревья почти не росли – образуя чистые пространства. По этим местам – чистинам, несмотря на то, что они были затянуты мхом, было очень опасно ходить. Но клюква росла именно там, поэтому шли, «ногу поставил, и она на полметра вниз уходила».
Можно представить, в каких условиях велись работы, когда начали осушать Большой Чистик (с 1958 года). За год в болоте было утоплено пять экскаваторов, которые приходилось вытаскивать по частям. Но что не под силу русскому человеку? Работы велись, а поселок рос. В восьмидесятые на торфобрикетном заводе (запущен в 1966 году) были заняты почти 300 человек, 70 работали на заводе ЖБИК (построился к 1970-м годам) и около 60-70 – в строительной организации. Почти все места были для мужчин (механизаторы, трактористы). Люди получали квартиры и навсегда оставляли свои деревни.
Самое близкое селение к Чистику – Заготино. До сих пор по прямой проселочной дороге жители ходят из одной деревни в другую (по населению на сегодняшний день Чистик настолько малолюден, что обозначен деревней – на май 2024 года здесь прописаны 778 человек). Наверное, вследствие этого близкого расположения около заготинского кладбища было отведено место для новых захоронений, а в Чистике своего кладбища нет.
Во многом из-за развития этого молодого перспективного поселка начала беднеть людьми соседняя деревня. Многие молодые семьи стали переезжать в новые квартиры Чистика. Другие – подаваться в Смоленск, а то и дальше (уроженцы Заготино сегодня живут в Ростове, Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге, Республике Коми, странах ближнего зарубежья).
Экспедиция студентов из северной столицы
Не секрет, что старшее поколение руднян говорит на диалекте, в котором немало белорусских слов. 17 августа 1998 года деревню Заготино посетили студенты Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Бабушки помогли им в сборе фольклора для дипломной работы, а у нас остались уникальные записи песен руднянского края, родных голосов – для всех их потомков. Спустя время, внуки обратились в архив консерватории и получили эти записи.
На звукозапись в доме Марии Кирилловны Киндеевой собрались Галина Григорьевна Борисенкова, Юлия Андреевна Кухтикова, Зинаида Демьяновна Быстрикова, Зоя Петровна Козлова, Зоя Павловна Лосенкова. Все они родились в начале 1930-х годов и прекрасно помнили народные обрядовые песни.
Приведем здесь текст крестильной песни «А в неделеньку поранешенько…», попробовав передать без транскрипции особенности говора, который вы сразу узнаете:
«А у няделеньку, а у няделеньку
пыранешенька, пыранешенька
Висить люлечка, висить люлечка
золотешенька, золотешенька.
У этой люлечки, у этой люлечки
Мать Прячыстыя, Мать Прячыстыя,
Айна люлечку, айна люлечку
пыкалыхыеть, пыкалыхыеть.
А у дитятеньки, а у дитятеньки
усель попытыеть, усель попытыеть:
Ты скажи, дитя, ты скажи, дитя,
кто твоя мамынька, кто твоя мамынька?
Моя мамынька, моя мамынька,
а усей Галечка, а усей Галечка,
А усе Галечка, а усе Галечка,
усе Иваноуна, усе Иваноуна».
Были записаны и не менее красивые свадебные песни. Во время разговора бабушки объясняли студентам: «Мы коров доили и все пели. И звали нас на свадьбы. Денег много получали и дарили их тогда. Три дни гуляем: с дойки – опять на свадьбу, и спать некогда. А доили три раза».
«Бягли коники усе лужком,
За йми нявеста биряжком,
Куда коники бигитё,
Каму разлуку дыитё?
Бягим коники сами по сабе,
Даем разлуку мы табе,
Мы табе, табе молоде.
Отлучим тябе от мамки,
Прилучим тябе к жениху.
Катись персянек у ряку,
Мы с тобой, милыя, ды вяку.
А в ряке персень будеть гнить,
Мы с тобой, милыя, будем жить.»
(все строки этой песни повторялись по два раза)
* * *
«Что ж ты, лучина бярезывыя,
Ни ярка гарела,
Ти ты, лучина бярезывыя,
В пячи ни бувала?
В пячи не была, жару не видала,
Не ярка горела.
В пячи пабудишь, жару увидишь,
Ярчей гореть будишь.
Что ж ты, Галечка,
что ж ты, девонька,
Не жалостно плачешь?
Ти ты, Галечка, ти ты, девочка,
В людех не бувала?
В людех не была, горя не видала,
Не жалостно плачешь.
В людех побудишь, горя увидишь,
Жалчей плакыть будишь.»
Деревня родная и ставшая родной
В настоящее время старожилы деревни Борис Иванович Киндеев (здесь он родился в 1959 году) и восьмидесятидвухлетняя Антонина Андреевна Фирсова (родилась в Попках – сейчас название деревни Концы – в трех километрах за д. Плоское, в 1967 году с мужем Петром Михайловичем приехали в Заготино, 35 лет она отработала на ферме, пять из них – бригадиром, муж также долго трудился на ферме).
Деревня конца шестидесятых запомнилась дружной, многолюдной, в каждом доме росли по 3-4 ребенка (у Кухтиковых даже пятеро). «Было весело: кого женили, кого в армию провожали». Интересно, что и подростки, и пожилые мужчины называли друг друга по имени, здоровались за руку, «среди мужчин возраста не было». Очень много жило трудолюбивых людей, работу свою любили, и около каждого дома был порядок.
В Заготино тогда жили и работали на ферме Козловы Нина Никифоровна и Алексей Харитонович (бригадир), Кухтикова Юлия Андреевна, Борисенковы Галина Григорьевна и Алексей Стефанович, Быстриковы Зинаида Демьяновна и Аркадий Иванович (шофер молоковоза), Кашиновы Юлия Яковлевна и Петр Васильевич (работал на скотном), Киндеевы Мария Кирилловна и Иван Алексеевич (рабочий заправки), Лазаренкова Степанида Лукьяновна, Лазаренкова Зинаида Семеновна, Козлова Зоя Петровна, Лазаренковы Михаил Павлович и Анна Николаевна, Шапочкина Валентина Николаевна.
«Все свадьбы играл Николай Кузьмич Соловьев, жена Елена Ивановна у нас не работала, они приезжие». Из праздников запомнилось, как отмечали первый выгон скота. «На Егорьев день выносили под ферму угощение (блины, пирожки, холодец), там маленький домик был, возле него – поляна. Стелили скатерти и начинали веселье. Кузьмич на гармошке, песен сколько попели…» Ивана Купалу всегда отмечали на Глинище (место на въезде в деревню, где добывали песок).
Борис Иванович после армии четыре года работал в Москве, но не променял тишину родной деревни на суету и гул столицы, несмотря на все ее возможности. Вернулся домой и ни о чем не жалеет. Основной трудовой стаж получил в своем колхозе, работал шофером и трактористом. Сейчас живет в родительском доме.
В 1910 году в Заготино (по Списку населенных мест Могилевской губернии) было указано 23 двора, в которых жило 277 человек. Можно сделать вывод, что в каждой семье в среднем было по 12 человек, что для начала 20 века не удивительно. В 1969 году деревня находится на пике своего расцвета (63 дома, 206 человек). А далее начинается спад: в 1989 году население уже вдвое меньше – 101 житель. Сегодня Заготино входит в состав Чистиковского сельского поселения. В 2007 году здесь были прописаны 55 человек, проживало около 30. Сейчас в деревне всего 7 жилых домов, 21 человек. Четыре улицы получили названия Центральная, Западная, Березовая и Восточная.
Уже давно нет школы (магазина), фермы… Из реалий прошлого сохранились только два березовых сквера, заложенных школьниками примерно 50 лет назад. Но, если вы приедете сюда, увидите много и молодых деревьев: Алексей, один из потомков рода Киндеевых, часто приезжает в родное Заготино и дарит ему новые и новые саженцы.
Всё умела, всем была рада
Воспоминания о своей бабушке оставили двоюродные брат и сестра Александр Кисляков и Анна Сыревич.
Анна СЫРЕВИЧ, г. Смоленск:
– Моя бабушка Юлия Андреевна Кухтикова родилась 10 июля 1930 года. Когда началась война, ей было почти 11 лет. В тот момент она была с подругой в поле и они увидели самолеты. Немцы жили в ее доме в Заготино, пока в 1943 году фашисты не стали отступать со Смоленщины. Прадеду чудом удалось спасти свою хату от поджога. На лошади подскочил полицай, облил хату соляркой и хотел бросить спичку, но прадед успел выйти и сказал, что он одинокий старый дед, пусть даст ему дожить в этой хате пару лет (до этого он отправил свою дочку Сашу и внучку Юлю в лес, а сам остался сторожить жилье). Вот так наша хата осталась цела и стоит до сих пор жилая старенькая и любимая нами (после войны ее достраивали, расширяли, но сам дом довоенный). А половина деревни сгорела. Потом всей деревней строили хаты пострадавшим.
Бабушка Юля осталась жить в этом доме, работала в колхозе дояркой, кормила телят. Родила пятерых детей. Была большой трудягой. Когда овдовела, все хозяйство легло на ее плечи. Бабушка умела хорошо валять валенки в бане (валенки получались плотными и долго служили), пряла шерстяные нити из овечьей шерсти, вязала носки, варежки, кофты, свитера. И, конечно же, бабуля очень вкусно готовила. До сих пор помню божественный вкус ее блюд из печи: щи, перловник, каши, блины, латки, драч, сырники, пирожки, драники с мясом, кулеш. Но особенно часто вспоминаю ее толмачи – блины из толченой картошки, выпекаемые на сухой сковороде в печи. Их нужно было есть сразу же со сметаной. Осенью, когда забивали свинью, начинались масштабные гастрономические заготовки: колбасы, тушенка, жаренка, мясные рулеты, котлеты и т. д.
С бабушкой я пасла коров, овец, кормила свиней, кур, цыплят, утят, ездили на сенокос, жали лен, ездили за поросятами, ходили в грибы и ягоды, валяли валенки, пряли на деревянной прялке, перегоняли молоко на сепараторе, сажали и пололи огород, убирали урожай, ходили на ферму доить коров и кормить телят. С ней я была на всех деревенских свадьбах и похоронах. Соседи называли ее Андреевна.
Запомнились ее слова с присущим деревенским диалектом. Например, «хвароба яе знаеть» (неизвестно, не знаю), «няхай бог крыеть» (спаси, господи), «атчурайся» (перестань, прекрати) и многие другие.
Все лучшие воспоминания из детства связаны с моей бабушкой. Все ее внуки проводили каникулы у нее в Заготино. И все соседские дети всегда играли возле дома моей бабушки. Она была добрая, честная, хозяйственная, общительная, веселая, трудолюбивая, мудрая… самая лучшая. Я очень ее люблю и благодарна ей за самое лучшее детство в деревне!
Умерла моя бабушка 13 января 2014 года.
Александр КИСЛЯКОВ, г. Браслав, Республика Беларусь:
– У бабушки были самые вкусные яблоки и клубника, а в Заготино – самое счастливое детство. Скучаю по пыльной дороге, не испорченной суетливым городским асфальтом, празднику Купалье, закатам, самому крепкому здоровому сну на сеновале, магазину в здании старой школы, где продавалось все, что необходимо было в детстве: два сорта печения, карамели, лимонада и самый вкусный кусковой сахар… Странно, и всего хватало. Скучаю по запаху шпал старой узкоколейки, просто скучаю и все, по всему, что дорого…
Окорока к Пасхе
Анатолий Савельевич СВИРИДЕНКОВ, г. Силламяэ, Эстония:
– Моя мама Свириденкова Анна Захаровна проработала всю жизнь на ферме телятницей, дояркой, была награждена медалью. Первая учительница в Заготинской школе – Станькова Мария Егоровна. Самый известный деревенский музыкант, виртуозно играющий на гармони, Владимир Козлов, он был на всех свадьбах. Я очень хотел выучиться играть на баяне, пешком ходил заниматься в Рудню. А маме своей Анне Захаровне помогал доить коров. У меня были свои любимые пять-шесть коров (конечно, они легко доились), вот тогда можно бежать на Чистик в кино, а после – на танцы в Жарь. Это тогда мне было 14-15 лет, 1964-66 годы. Главное, я мальчишка был, единственный, кто из ребят мог доить коров руками, а тогда так и было, доили только вручную.
В конце улицы Центральной в направлении д. Жарь была общая деревянная баня. Баня топилась дровами. Каждый хозяин привозил свои дрова в пятницу, и в субботу начинали топить, это делалось каждую субботу по очереди дворов. Примерно к 6 часам вечера баня была готова и хозяин посылал ребят, когда сам, когда жену, чтобы пригласить в баню, сказать, что баня готова. Сначала шли мужчины, ребята, потом женщины и маленькие дети. Помню, возле бани собирались по несколько человек мужчин, чтобы забрать деток маленьких домой, а женщины продолжали мыться. И так моечный день продолжался до полуночи. Все это я помню и видел сам, так как наш дом находился недалеко. На нашей усадьбе сейчас стоит дом кирпичный на две семьи (теперь там живут семья Шапочкиной Валентины и семья Адреанцевой Лидии), этот дом построил колхоз, председателем была Быстрикова Анна Федосовна.
Баня еще выполняла роль коптильни. Осенью почти каждый, у кого был поросенок, резал его на мясо, сало. Это делали или к 7 ноября, или к Новому году. Хозяин обязательно оставлял заднюю часть (окорок), а ранней весной окорок обвязывали марлей и вешали на улице под конек дома, как говорили севриться, он был, конечно, просолен, добавлено специй. Ближе к Пасхе, недели за две, намывали баню, делали шесты, чтобы повесить окорока и начинали топить, т. е. коптить. Помню, привозили еловый лапник, дрова, несколько дней поддерживалась определенная температура. Весь дым был внутри, так проходил процесс копчения. Для меня было в радость с ночевкой находиться в предбаннике и подбрасывать хвою в печь. Обычно коптилось от 20 до 30 окороков. Потом снимали каждый свои, убирались, мыли стены, пол и опять баня. Весь процесс занимал 5-7 дней.
Озеро Максимцевых
Алена КИНДЕЕВА (г. Избербаш, Дагестан) как-то записала деревенскую легенду о роде Максимцевых, превратив ее сюжет почти в сказочный:
– Быль то или небыль – точно не скажу, но старики в нашей деревне говорят, что было раньше в Заготыне (это нашу деревню так на старый манер называют) озеро. Настоящее: широкое и глубокое, в начале деревни, там, где нынче русло речки, что пересыхает в летнее время и наводняется лишь по весне. И была наша деревня краше всех других деревень в округе, так как вода в деревне – красота и роскошь.
И вот как-то в жаркий летний полдень мальчик по имени Максим пошел с друзьями на озеро купаться, а на шее у него ключи от двора висели, так как родители уехали в город по делам. И пока купался, ключи-то и потерял. Ох и испугался Максимка, что родители осерчают, никак из озера не выходит, все ныряет, ключи ищет. Подождали его друзья, не выдержали да и ушли, побежали по своим мальчишечьим делам. А Максимка никак не уйдет, ныряет, песок озерный перебирает – ключи ищет. Так и утоп в озере.
Вернулись родители из города: ни сына, ни ключей. А когда нашли сына утопшим, мать и волосы на себе рвала, и лицо царапала, потемнела от горя и от гнева, да и закляла озеро заготинское страшным заклятием, какое только может наложить мать в гневе (а он по силе своей так же велик, как материнская любовь). С тех пор стала вода в озере с каждым годом убывать, пока не пересохло оно совсем, и осталась только речка Готынь, больше похожая на ручей в силу своего маловодия и мелкости.
Жизнь в деревне непростая, и некогда скорбеть да убиваться. Пошла жизнь своим чередом, появились у тех родителей другие дети, да только рана глубоко в сердце материнском, не может она первенца своего любимого забыть, не может смириться с несправедливой судьбой.
А к старости мать не то от горя, не то от пережитого груза лет помешалась, все ходила вокруг озера да приговаривала: «Максим, проснись! Ключи нашлись!». Уж и привыкли к ней заготинцы да оставили в покое. Так она и ходила по берегу, да бормотала тихонько все одно и то же: «Максим проснись, ключи нашлись!» Что ни спросят у нее, а она все одно отвечает. От нее и пошла в деревне фамилия Максимцевы.
Бабушка Галя (Галина Григорьевна Борисенкова) в девичестве Максимцева, она мне эту историю и поведала. Говорила: «Легенда это наша деревенская».
А вот что с ней самой было. Раз как-то одна ее знакомая с Чистика пошла на кладбище наше Заготинское, убралась на могилке, посидела, да домой вернулась, хвать, а ключей от квартиры нет. Потеряла! Она обратно на кладбище – там нет. Может, по дороге выронила? – опять до Чистика дошла – и на дороге нет. Пошла обратно на кладбище уже сама не своя: усталая да расстроенная. Остановилась в низинке, присела на пенек, глаза от усталости и досады слезами наполнились. А тут как раз баба Галя навстречу идет.
«Иду, – говорит баба Галя, – и вдруг слышу как будто кто-то за спиной бормочет: “Максим, проснись! Ключи нашлись!”» Удивилась баба Галя, что вдруг вспомнила эту старую легенду, что она на ум пришла, как будто кто сказал тихонько. Тут впереди видит, знакомая ее на пенечке сидит, наклоняется и поднимает с земли ключи. Смотрят они друг на друга и обе понять не могут, как будто сила какая-то их столкнула. Тут-то знакомая бабина очнулась, вскочила да давай танцевать, да обнимать бабу Галю, да рассказывать, как она ключи искала целый день, а как баба Галя мимо прошла, ключи-то как будто сами и нашлись! А баба Галя еще больше удивилась, да подумала: «Значит есть что-то в той легенде о Максимцевых и об озере Заготинском».
Как одна семья
Валентина Петровна СЕРГЕЕНКОВА, д. Узгорки Руднянского района
Кашиновы Петр Васильевич и Юлия Яковлевна работали на ферме. Мама всю жизнь мне говорила, что очень любит свою работу, а я все удивлялась, ну что там можно любить? Папа скотником – пастухом был, работа тяжелая, что и говорить, и в ночь работали. Мы пчел держали, помню, рой выйдет, мама меня отправляет в поле, попасти коров, пока папка рой огребет, посадит. А я побегу, а потом дождаться не могу, пока он придет, так долго кажется время в поле идет! И собака меня совсем не слушается!
А он, бывало, время коротал – корзины плел, да такие аккуратные, красивые! Журналов с собой, газет наберет – читает. Еды с собой возьмет, – в поле это ж такая вкуснота! Сало (обязательно!), яйца вареные, огурцы…
Раньше доярки очень ответственно относились к своей работе и к своему рабочему месту. Бывало, как весна, коров чистят, моют. Ферму белют, окна моют, везде чистота!
Почему-то было принято: дети строго помогали на ферме родителям! Мое детство там и прошло! Силос разнести, муку; картошку осенью мыли в больших ваннах, патоку носили. Минус огромный был в том, что запах силоса очень стойкий, ну хоть как мойся, все равно есть..
На нашей улице люди жили очень дружно, и правда, как одна семья.
Сходить к соседям и взять в долг или просто попросить, это было настолько обычно! Около нас жила баба Арина Лапкина, так мы вообще как одной семьей жили! Она одна, без мужа, так какие инструменты, топор, молоток, гвозди, придет, бывало, возьмет. А мы дети, особенно я, чуть что надо, то соль кончится, то сахар, – круть к соседке!
Баня на нашем кусочке улицы была только у нас, поэтому топили по очереди все соседи и мылись, почему-то сначала строго все мужчины, а потом вечером женщины! Мужчины как-то быстро помоются, мне казалось, а женщины – прям целый ритуал! Это своего рода место общения было и обмена информацией! Все любили париться, и нас, детей, приучали, парились только так!
Баба Арина увидит, что мы ведра взяли и что-то по двору бегаем, куда-то собираемся: сразу понимает – в ягоды! Все, бросает всю работу и с нами! Ягод много было на болоте, я вот теперь вспоминаю, мы ж небольшие были и одни ходили, без родителей. В болоте-то людей всегда встретишь, но все же!
Пошла я как-то с Леной, сестрой, а она маленькая, ну, может, лет 8-9, собираем клюкву и высыпаем в самодельный рюкзак, который на дерево повесили… К вечеру, как посмотрели, сколько набрали!!! А нести-то не можем! Волоком тащили по мху. А потом припрятали в лесу, я привела отца, и он отнес домой. Сколько нес, столько ругался, зачем столько набрали!
Мы еду с собой почти никогда не брали в болото, разве что яблоки или попить чего, а баба Арина брала… Бывало, достанет в конце дня сало с хлебом и угощает нас, и учит как в лесу есть надо: на хлеб сала кусочек положит, откусывает хлеб, а сало носом отодвигает.
Бывало змею увидим, баба Арина говорит: «Не лезьте к ней! Она тут хозяйка! А мы в гости пришли!» Вот что значит – в детстве научили. Мама все время говорила перед походом в лес, на болото: «Змея-змеюха, бойся человечьего духа, Иорданской воды, постной Коляды!» Говорила, что после этого змею не увидишь.
На благо Родины
Надежда Николаевна ЛОСЕНКОВА, г. Смоленск
Мои корни из Руднянского района. Мама Лосенкова Зоя Павловна из д. Лешно, родилась 6.07.1931 г. Отец Лосенков Николай Федорович родился 25.05.1930 г. в д. Шеровичи. Детство моих родителей пришлось на военные годы. Страшными и голодными были эти годы оккупации. Из рассказов мамы я знаю, что им часто приходилось прятаться в лесу от карательных отрядов. Мой дедушка Лосенков Федор Титович в 1941 году ушел на фронт и пропал без вести. По окончании школы родители остались работать в колхозе, так как там катастрофически не хватало рабочих рук.
Познакомились мои родители и поженились в 1955 году и стали жить в д. Заготино. Мама работала в бригаде полеводов, отец стал трактористом. Я их помню трудолюбивыми, ответственными и болеющими за свое дело людьми. Папа и мама получали за свой труд награды. У них были удостоверения «Труженик тыла».
Мое детство прошло в этой деревне. Сейчас с теплотой вспоминаю утро, когда просыпаешься и чувствуешь вкусный запах из русской печи. Омлет на сковороде, тарелка с оладьями, залитыми домашней сметаной, только что испеченное печенье. Я сейчас думаю, как мама все успевала, имея еще и домашнее хозяйство. Мы, дети, тоже помогали по домашнему хозяйству, а когда подросли, ходили на колхозные поля заготавливать сено, лен, убирать брюкву и т. д.
Люди поколения моих родителей были дружными, отзывчивыми, всегда вместе: и в горе, и в праздники. Какое было веселье, когда заканчивались посевная и сбор урожая! Это совместные застолья, песни, пляски, а уж свадьбы гуляла вся деревня.
Так прошла в трудах и заботах жизнь моих родителей. Жаль, что время ушло, деревня опустела, остались одни воспоминания. Но в каждой семье хранят память о тех людях, которые здесь жили, растили детей, работали на благо Родины.
Анна Михалутина
Социально значимый проект «Земля – кормилица России»